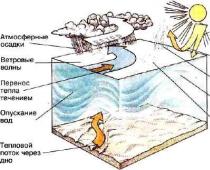Константин Паустовский
Сказки детям (сборник)
© Паустовский К. Г., насл., 2017
© Состав., оформление. ООО Издательство «Родничок», 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *Тёплый хлеб
Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, – ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат.
Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди – помогал Панкрату чинить плотину.
Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку! На деревне говорили, что конь ничей, а вернее – общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь – раненый, пострадал от врага.
Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»
Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»
Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.
Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб – хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.
В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.
Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:
– На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!
И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.
Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца – так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.
Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» – и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рев Филька слышал тонкий и короткий свист – так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.
Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.
Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» – кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.
– Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, – говорила бабка. – Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь – боялся пустыни.
– Отчего же стрясся тот мороз? – спросил Филька.
– От злобы людской, – ответила бабка. – Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» – «Мне хлеб с полу поднять невозможно, – говорит солдат. – У меня вместо ноги деревяшка». – «А ногу куда девал?» – спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», – отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный – подымешь, – засмеялся мужик. – Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит: это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул – и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.
– Отчего же он помер? – хрипло спросил Филька.
– От охлаждения сердца, – ответила бабка, помолчала и добавила: – Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
– Чего ж теперь делать, бабка? – спросил Филька из-под тулупа. – Неужто помирать?
– Зачем помирать? Надеяться надо.
– На что?
– На то, что поправит дурной человек своё злодейство.
– А как его исправить? – спросил, всхлипывая, Филька.
– А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.
– Да ну его, Панкрата! – сказал Филька и затих.
Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.
Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота – жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.
Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.
Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.
– Садись к печке, – сказал он. – Рассказывай, пока не замёрз.
Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.
– Да-а, – вздохнул Панкрат, – плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!
Филька сопел, вытирал рукавом глаза.
– Ты брось реветь! – строго сказал Панкрат. – Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил – сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать – неизвестно.
– Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? – спросил Филька.
– Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью – тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
– Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте – подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг.
Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесом всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая, – куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?
Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к
вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.
Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне
лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу
подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного
цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали
вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве
было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.
- Вы откуда? - спросил я их.
- Из Ласковского леса, - ответили они и рассказали, что они пионеры из
соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова,
а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на
песок.
- Он только ворчливый, - сказал самый маленький мальчик. - Все ему
мало, все мало. Вы его знаете?
- Знаю. Давно.
- Он хороший?
- Очень хороший.
- Только вот все ему мало, - печально подтвердил худой мальчик в кепке.
- Ничем ему не угодишь. Ругается.
Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в
это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую
руку и сказал:
- Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают.
Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. Верно я
говорю? Садитесь в лодку. Поехали.
- Ну, вот видите, - сказал маленький мальчик, залезая в лодку. - Я же
вам говорил!
Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и
перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен,
старик многоречивый, тотчас завел разговор.
- Ты только не думай, - сказал он мне, - они на меня не в обиде. Я им
уже столько в голову вколотил - страсть! Как дерево пилить - тоже надо
знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем
не убило. Теперь небось знаете?
- Знаем, дедушка, - сказал мальчик в кепке. - Спасибо.
- Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, дровоколы, работнички!
- Теперь умеем, - сказал самый маленький мальчик.
- Ну, то-то! Только это наука не хитрая. Пустая наука! Этого для
человека мало. Другое знать надобно.
- А что? - встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.
- А то, что теперь война. Об этом знать надо.
- Мы и знаем.
- Ничего вы не знаете. Газетку мне намедни вы принесли, а что в ней
написано, того вы толком определить и не можете.
- Что же в ней такого написано, Семен? - спросил я.
- Сейчас расскажу. Курить есть?
Мы скрутили по махорочной цигарке из мятой газеты. Семен закурил и
сказал, глядя на луга:
- А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так
думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?
- Правильно.
- А что это есть - любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И
видать, что они ничего не знают.
Мальчики обиделись:
- Как не знаем!
- А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди, ты не
выскакивай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: "Иду я
за родную землю". Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?
- За свободную жизнь иду, - сказал маленький мальчик.
- Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.
- За свои города и заводы, - сказал веснушчатый мальчик.
- Мало!
- За свою школу, - сказал мальчик в кепке. - И за своих людей.
- Мало!
- И за свой народ, - сказал маленький мальчик. - Чтобы у него была
трудовая и счастливая жизнь.
- Все вы правильно говорите, - сказал Семен, - только мало мне этого.
Мальчики переглянулись и насупились.
- Обиделись! - сказал Семен. - Эх вы, рассудители! А, скажем, за
перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?
Мальчики молчали.
- Вот я и вижу, что вы не все понимаете, - заговорил Семен. - И должен
я, старый, вам объяснить. А у меня и своих дел хватает: бакены проверять, на
столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому
- эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней
вроде как пестун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так
получается, что все это правильно - и свобода, и города, и, скажем, богатые
заводы, и школы, и люди. Так не за одно это мы родную землю любим. Ведь не
за одно?
- А за что же еще? - спросил веснушчатый мальчик.
- А ты слушай. Вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на
озеро Тишь, а оттуда лугами на Остров и сюда ко мне, к перевозу. Ведь шел?
- Шел.
- Ну вот. А под ноги себе глядел?
- Глядел.
- А видать-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать,
да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть
цветок или траву - и иди дальше.
- Зачем?
- А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая
прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты
его нарви, понюхай - он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот
улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница?
Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или
купена. Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним
цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь - и зазвонят. То-то! Это
растение приточное. Оно болезнь исцеляет.
- Что значит приточное? - спросил мальчик в кепке.
- Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь - ломота в костях. От сырости. От
купены боль тишает, спишь лучше и работа становится легче. Или аир. Я им
полы в сторожке посыпаю. Ты ко мне зайди - воздух у меня крымский. Да! Вот
иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек; а я
слышу - дождиком от него тянет. Грибным дождем - спорым, не очень шумливым.
Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет, он все наше
богатство растит. Я часто, ближе к вечеру, сижу у сторожки, корзины плету,
потом оглянусь и про всякие корзины позабуду - ведь это что такое! Облак в
небе стоит из жаркого золота, солнце уже нас покинуло, а там, над землей,
еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет, и начнут в травах коростели
скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят
соловьи будто громом - по лозе, по кустам! И звезда взойдет, остановится над
рекой и до утра стоит - загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то,
ребята! Вот на это все поглядишь и подумаешь: жизни нам отведено мало, нам
надо двести лет жить - и то не хватит. Наша страна - прелесть какая! За эту
прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать
на осквернение. Правильно я говорю? Все шумите, "родина", "родина", а вот
она, родина, за стогами!
Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела
цапля.
- Эх, - сказал Семен, - идут на войну люди, а нас, старых, забыли! Зря
забыли, это ты мне поверь. Старик - солдат крепкий, хороший, удар у него
очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, - вот тут бы немцы тоже
почесались. "Э-э-э, - сказали бы немцы, - с такими стариками нам биться не
путь! Не дело! С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат,
шутишь!"
Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо
побежали от нее вдоль воды.
- Так-то, ребята, - сказал Семен. - Опять небось будете на деда
жаловаться - все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед.
Мальчики засмеялись.
- Нет, понятный, совсем понятный, - сказал маленький мальчик. - Спасибо
тебе, дед.
- Это за перевоз или за что другое? -- спросил Семен и прищурился.
- За другое. И за перевоз.
- Ну, то-то!
Мальчики побежали к песчаной косе - купаться. Семен поглядел им вслед и
вздохнул.
- Учить их стараюсь, - сказал он. - Уважению учить к родной земле. Без
этого человек - не человек, а труха!
Рассказ написан в 1943 г. Применительно к нашему времени речь идет,
конечно, о неохраняемых цветах и травах. Хотя цветы лучше вообще никакие не
срывать. Нигде дикий цветок не будет выглядеть так красиво, как там, где он
вырос.
Рискую слишком вольным толкованием рассказа, но, опять-таки, в
контексте сегодняшнего дня враги - это не только, и, наверное, не столько
внешние враги ("натовцы"), сколько нарушители экологического
законодательства, лица с дурным отношением к природе.
БАРСУЧИЙ НОС
много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.
Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали
кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.
Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как
сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с
глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как
иглы, зубами.
Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны
далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас
шевелились и дрожали низкие звезды.
У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет,
чтобы отгонять волков, - они тихо выли по дальним берегам озера. Их
беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.
Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у
костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно
бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал
из травы даже ушей.
Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и
зверь, очевидно, прибежал на этот запах.
С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо
переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас,
взрослых, он все замечал и рассказывал.
Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не
могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день
он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел,
как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.
Мы делали вид, что верили ему.
Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна,
блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового
снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.
Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы
замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно
тянулась к двустволке, - кто знает, что это мог быть за зверь!
Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на
свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы
показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась
полосатая шкурка.
Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно
посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.
Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть
зверьку, что он обожжется, но я опоздал - барсук прыгнул к сковородке и
сунул в нее нос...
Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился
обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от
негодования и боли.
На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные
лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел,
ударила пудовая щука.
Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел,
как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.
Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали
посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих
болотах - мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось
двигаться.
Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он
не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.
Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей
вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.
Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в
середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.
Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и
фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука
носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.
Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами,
стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о
помощи, но мы ничем не могли ему помочь.
Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на
носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз.
Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в
зарослях брусники.
С тех пор я его больше не видел.
ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ
принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц
плакал и часто моргал красными от слез глазами...
- Ты что, одурел? - крикнул ветеринар. - Скоро будешь ко мне мышей
таскать, оголец!
- А вы не лайтесь, это заяц особенный, - хриплым шепотом сказал Ваня. -
Его дед прислал, велел лечить.
- От чего лечить-то?
- Лапы у него пожженные.
Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул
вслед:
- Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком - деду будет
закуска.
Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул
носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо
дрожал под засаленной курткой.
- Ты чего, малый? - спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела
к ветеринару свою единственную козу.- Чего вы, сердешные, вдвоем слезы
льете? Ай случилось что?
- Пожженный он, дедушкин заяц, - сказал тихо Ваня. - На лесном пожаре
лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.
- Не умреть, малый, - прошамкала Анисья. -- Скажи дедушке своему, ежели
большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу
Петровичу.
Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а
бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел
стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она
большими островами росла на полянах.
Заяц стонал.
Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами
листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на
листья, уткнулся в них головой и затих.
- Ты чего, серый? - тихо спросил Ваня. - Ты бы поел.
Заяц молчал.
- Ты бы поел, - повторил Ваня, и голос его задрожал. - Может, пить
хочешь?
Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.
Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес - надо было поскорее
дать зайцу напиться из озера.
Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы
белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на
глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже
две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась
в янтарный камень.
Наутро дед надел чистые онучи[i] и новые лапти, взял посох и кусок
хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только
изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.
Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал
куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит
тихий пожар.
На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали
около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы.
Дед перекрестился.
- Не то лошадь, не то невеста - шут их разберет! - сказал он и сплюнул.
Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего
не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком
белом халате сердито пожал плечами и сказал:
- Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш -
специалист по детским болезням -- уже три года как перестал принимать
пациентов. Зачем он вам?
Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
- Это мне нравится! -сказал аптекарь. -- Интересные пациенты завелись в
нашем городе. Это мне замечательно нравится!
Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на
деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание
становилось тягостным.
- Почтовая улица, три! - вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул
какую-то растрепанную толстую книгу. - Три!
Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя - из-за Оки
заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как
заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла
по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга;
далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя
падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность:
каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.
Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне
появилась растрепанная борода деда.
Через минуту Карл Петрович уже сердился.
- Я не ветеринар, - сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в
лугах проворчал гром. - Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.
- Что ребенок, что заяц - все одно, - упрямо пробормотал дед. - Все
одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас
коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан,
благодарность оказывать должен, а ты говоришь - бросить!
Еще через минуту Карл Петрович - старик с седыми взъерошенными бровями,
- волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.
Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро
дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.
Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что
Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего
какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на
третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе,
назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.
Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре
историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго
добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с
марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал
профессору письмо:
Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь
Ларион Малявин.
...Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия,
холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки
зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.
Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом
поставил самовар - от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных
точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту,
ляскал зубами и отскакивал - воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц
спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.
Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за
чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.
В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли
сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в
него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.
Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов,
сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой
по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.
Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер
перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам
деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время
урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.
Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади
был уже слышен широкий гул и треск пламени.
Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у
деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только
дед заметил, что они у зайца обгорели.
Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед
знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда
спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.
Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: "Погоди,
милый, не беги так-то шибко!"
Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед
- оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были
опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.
- Да, - сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар
был всему виной, - да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился,
милый человек.
- Чем же ты провинился?
- А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери
фонарь!
Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с
фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.
[i] Онучи - обмотки для ноги под сапог или лапоть, портянка
СИВЫЙ МЕРИН
они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали
около них, стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от
каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего
по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката,
где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти
километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.
Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим
спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.
Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за
день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали,
раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах
отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом
тянуло ромашкой и медуницей, - ее запах был похож на сладкий запах пыли.
Из лощин пахло укропом, из озер - глубокой водой, а из деревни изредка
доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали
головы и ржали.
Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно
от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.
Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда
бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо,
как в поле.
По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин.
Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и
побрел следом за нами.
Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не
отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и
перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала
ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и
настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно.
Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по
себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому делу
Митрию, и он посмеялся надо мной.
- Эх ты, безглазый! - сказал он. - Да ты глядел или нет, чего она
делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай
покурить, тогда я тебе все объясню.
Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет
по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке
незачем выискивать их в густой траве - она летает около человека, ловит их
на лету и кормится без всякой заботы.
Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда
толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего
таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было
скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли
где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.
На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго
ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.
- Куда, дьявол! - в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин
распугает рыбу.
Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел,
помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул,
будто сказал: "Эх вы, ничего-то вы не понимаете!" Мы дали ему корку хлеба.
Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в
сторону, как теркой, и снова уставился на костер - задумался.
- Все-таки, - сказал Рувим, закуривая, - он, наверное, о чем-нибудь
думает.
Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом
о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь?
Одни только несправедливые окрики: "Куда, дьявол!", "Заелся на хозяйских
хлебах!", "Овса ему захотелось - подумаешь, какой барин!". Стоило ему
оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и
Рассказы Паустовского
19bc916108fc6938f52cb96f7e087941
Однажды через деревню проходили кавалеристы и оставили вороного коня, раненого в ногу. Мельник Панкрат вылечил коня, и тот стал ему помогать. Но мельнику было тяжело прокормить коня, поэтому конь иногда ходил по деревенским домам, где его угощали кто ботвой, кто хлебом, а кто и сладкой морковкой.
В деревне жил мальчик Филька, по прозвищу "Ну тебя", потому что это было его любимое выражение. В один день конь пришел к дому Фильки, надеясь, что мальчик даст ему что-нибудь поесть. Но Филька вышел из калитки и бросил хлеб в снег, выкрикивая ругательства. Это очень обидело коня, он встал на дыбы и в этот же момент началась сильная метель. Филька еле нашел дорогу до двери дома.
А дома бабка, плача, рассказала ему, что теперь их ждет голодная смерть, потому что река, которая вращала мельничное колесо замерзла и теперь нельзя будет сделать муку из зерна, чтобы испечь хлеб. А запасов муки во всей деревне осталось на 2-3 дня. Еще бабка рассказала Фильке историю, что подобное уже было в их деревне около 100 лет назад. Тогда один жадный мужик пожалел хлеба для солдата-инвалида и бросил ему заплесневелую корочку на землю, хотя солдату было тяжело нагибаться - у него была деревянная нога.
Филька испугался, но бабка сказала, что мельник Панкрат знает, как жадному человеку исправить свою ошибку. Ночью Филька побежал к мельнику Панкрату и рассказал ему как обидел коня. Панкрат сказал, что ошибку ее можно исправить и дал Фильке 1 час 15 минут, чтобы он придумал, как спасти деревню от стужи. Cорока, жившая у Панкрата, все подслушала, затем выбралась из дома и улетела на юг.
Филька придумал попросить всех мальчишек деревни помочь ему продолбить лед на реке ломами и лопатами. И на следующее утро вся деревня вышла на борьбу со стихией. Разожгли костры, кололи лед ломами, топорами и лопатами. К обеду с юга потянул теплый южный ветер. И к вечеру ребята пробили лед и река хлынула в мельничный лоток, вращая колесо и жернова. Мельница начала молоть муку, а женщины набивать ею мешки.
К вечеру вернулась сорока и стала всем рассказывать, что она летала на юг и попросила южный ветер пощадить людей и помочь им растопить лед. Но ей никто не верил. Женщины в этот вечер замесили сладкого теста и напекли свежих теплых хлебов, по всей деревне стоял такой запах хлеба, что все лисы выбрались из нор и думали, как бы им раздобыть хоть краюшку теплого хлеба.
А на утро Филька взял теплый хлеб, других ребят и отправился на мельницу угостить коня и извиниться перед ним за свою жадность. Панкрат выпустил коня, но тот сначала не стал есть хлеб из рук Фильки. Тогда Панкрат поговорил с конем и попросил его простить Фильку. Конь послушал своего хозяина и съел всю буханку теплого хлеба, а затем положил свою голову на плечо Фильке. Все сразу стали радоваться и веселиться, что теплый хлеб примирил Фильку и коня.
Рассказ Паустовского "Теплый хлеб" входит в .
Рассказы Паустовского
81448138f5f163ccdba4acc69819f280

Краткое содержание рассказа "Скрипучие половицы":
Рассказ про интересный случай из жизни Чайковского: у него была усадьба в сосновом бору. Это был старый иссохшийся дом, в котором он любил сочинять музыку. У Чайковского был слуга и экономка, которые жили с ним и помогали ему. Однажды в дом к Чайковскому прибежал Василий и рассказал, что его помещик продал весь лес Харьковскому купцу, который распорядился пустить весь лес под топоры. Василий слезно просил Чайковского помочь сохранить лес. Петр Ильич тут же выехал к губернатору, но тот сказал, что не сможет помочь в этом вопросе, так как все законно, лес является собственностью купца, а значит он может делать с ним все, что хочет. Тогда Петр Ильич решил перекупить лес у купца Трощенко, но тот выставил очень высокую цену. Таких денег у Чайковского не было, а вексель под залог его музыки купец принимать отказался. Тогда Петр Ильич решил уехать из усадьбы в Москву, чтобы не видеть этого варварства. Вечером к его дому пришел Василий, понял, что Чайковский не смог защитить лес и уехал, а в это время к дому подошел купец Трощенко. Они с Василием поругались и купец ушел.
81448138f5f163ccdba4acc69819f2800">
Рассказы Паустовского
087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f

Интересный рассказ о законах природы. Однажды, когда в лесничей сторожке компания людей сожалела о том, что лето проходит, скоро незаметно пролетит осень и наступит затяжная зима, молодой парень по имени Ваня, внук лесника, которого надоумил дед, принес им в подарок молодую березу двух лет. Посоветовал посадить ее в бочку и она всю зиму будет напоминать окружающим о лете. Но замысел не удался, когда листья уличных берез в один день окрасились в рыжий цвет и начали опадать, домашняя береза не стала отставать от своих природных собратьев и тоже пожелтела с ног до головы и начала терять листья. Домашнее тепло не спасло ее от законов природы, по которым все лиственные деревья перед зимой сбрасывают листья. Это вынужденная необходимость для продолжения жизни дерева. Правда по этому поводу у деда была своя версия, он считал, что это все происходит из за дружбы между деревьями, и стоять в тепле и не терять листья всю зиму береза просто не смогла бы из за угрызений совести. Как бы она потом перед своими уличными друзьями-собратьями показалась, который пережили тяготы и лишения холодной зимы.
087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f0">
Рассказы Паустовского
e2230b853516e7b05d79744fbd4c9c13

Очень интересный рассказ про зайца-спасителя. Однажды к деревенскому ветеринару принесли зайца с обожженными лапами и животом, слезно умоляя вылечить его, так как он, якобы спас деда-охотника от смерти. Но ветеринар отказался его лечить и отправил парня с зайцем к Карлу Петровичу - городскому детскому врачу. На следующий день парень с дедом отнесли зайца в город, с трудом нашли адрес Карла Петровича, который сначала тоже не хотел браться за лечение, но когда узнал историю этого зайца с рваным ухом, то согласился помочь и вылечил его. А история была такова: один раз дед вышел в лес на охоту, ему попался заяц с рваным ухом, дед в него выстрелил, но промахнулся. Побродив еще некоторое время по лесу, дед почувствовал запах гари и нарастающий шум. Старый охотник понял, что попал в лесной пожар и принялся убегать. Был сильный ветер и огонь уже настигал его, дым застилал все вокруг, когда внезапно выскочил заяц. Дед понял, что это его спасение - зайцы всегда чувствуют откуда идет пожар и погибают только если окружены огнем. Долго дед бежал за зайцем, еле поспевал, а у зайца было рваное ухо и обожжен живот и лапы. Когда заяц и дед выбрались из пожара, они повалились на землю от усталости. Так заяц вывел деда и спас ему жизнь. За это дед отблагодарил зайца полным излечением от ожогов и приютил его в своем доме.
Константин Паустовский «Заячьи лапы»
К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завернутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазами...
— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!
— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.
— От чего лечить-то?
— Лапы у него пожжённые.
Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:
— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.
Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.
— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что?
— Пожжённый он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожёг, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрёть.
— Не умрёть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своёму, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несёт его в город к Карлу Петровичу.
Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.
Заяц стонал.
Ваня нашёл по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.
— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.
Заяц молчал.
Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза.
Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.
Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.
Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрёл в город. Ваня нёс зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.
Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.
На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы.
Дед перекрестился.
— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберёт! — сказал он и сплюнул.
Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:
— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?
Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!
Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.
— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу. — Три!
Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю.
Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.
Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.
Через минуту Карл Петрович уже сердился.
— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.
— Что ребёнок, что заяц — всё одно, — упрямо пробормотал дед. — Всё одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!
Ещё через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.
Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.
Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий День к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.
Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпьё и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:
«Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле. При сём остаюсь Ларион Малявин».
Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.
Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.
Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.
В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.
Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него.
Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час.
Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.
Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.
Дед обрадовался зайцу, будто родному.
Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.
Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»
Заяц вывел деда из огня.
Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.
— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.
— Чем же ты провинился?
— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!
Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.
Константин Паустовский «Кот-ворюга»
Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.
Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была сорвана.
Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.
Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на берёзу. Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.
Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.
Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошёл час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Лёнька взял шёлковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щёлканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы впервые его рассмотрели как следует.
Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.
Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:
— Что же нам с ним делать?
— Выдрать! — сказал я.
— Не поможет, — сказал Лёнька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.
Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.
С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.
Впереди мчался, икая, голенастый петух- дурак, прозванный «Горлачом». Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвёртой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошёл. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотнёй прятались под домом.
Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.
Летние дни
Всё, что рассказано здесь, может случиться с каждым, кто прочтёт эту книгу. Для этого нужно только провести лето в тех местах, где есть вековые леса, глубокие озёра, реки с чистой водой, заросшие по берегам высокими травами, лесные звери, деревенские мальчишки и болтливые старики. Но этого мало. Всё, что рассказано здесь, может случиться только с рыболовами!
Я и Рувим, описанный в этой книге, мы оба гордимся тем, что принадлежим к великому и беззаботному племени рыболовов. Кроме рыбной ловли мы ещё пишем книги.
Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится одно, другому совсем иное – тут ничего не поделаешь. Но если какой-нибудь задира скажет, что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого не простим.
Мы провели лето в лесах. С нами был чужой мальчик; его мать уехала лечиться к морю и попросила нас взять её сына с собой.
Мы охотно взяли этого мальчика, хотя были совсем не приспособлены к тому, чтобы возиться с детьми.
Мальчик оказался хорошим другом и товарищем. В Москву он приехал загорелый, здоровый и весёлый, привыкший к ночёвкам в лесу, к дождям, ветру, жаре и холоду. Остальные мальчики, его товарищи, ему потом завидовали. И завидовали недаром, как вы это сейчас увидите из нескольких маленьких рассказов.
Золотой линь
Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озёрах. Мы знали это, но всё-таки пошли на Прорву.
Неприятности начались сейчас же за Чёртовым мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но они нас заметили.
– Куды, соколики? – закричали и захохотали бабы. – Кто удит, у того ничего не будет!
– На Прорву подались, верьте мне, бабочки! – крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. – Другой пути у них нету, у горемычных моих!
Бабы нас изводили всё лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:
– Ну что ж, хоть на ушицу себе наловили, и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принёс, и до чего гладких – прямо жир с хвоста капает!
Мы знали, что Петька принёс всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счёты: он срезал у Рувима крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.
Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.
Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким мёдом.
Мы дышали тёплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.
Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды.
Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплёлся дед, по прозвищу Десять процентов.
– Ну, как рыбка? – спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. – Ловится?
Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.
Дед сел, закурил махорку и начал разуваться.
– Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась. Шут её знает, какая ей насадка нужна!
Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.
– Ишь стрекочет! – пробормотал дед и взглянул на небо.
Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело жёлтое солнце.
– Сухомень!.. – вздохнул дед. – Надо думать, к вечеру ха-а-роший дождь натянет.
Мы молчали.
– Лягва тоже не зря кричит, – объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. – Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва – кило в ней было весу, не меньше, – сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Чёрта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почём зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.
– И ничего? – спросил я. – Есть можно?
– Скусная пища, – ответил дед. – И-и-их, милый, гляжу я на тебя, всё ты по Прорвам шатаешься. Хошь, я тебе пиджачок из лыка сплету? Я сплёл, милок, из лыка цельную тройку – пиджак, штаны и жилетку – для выставки. Супротив меня нет лучшего мастера на всё село.
Дед ушёл только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.
Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего – мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной, сопеть и оцепенело смотреть на поплавок.
Мы заметили, что при этом обстоятельстве рыба сейчас же перестаёт клевать.
В худшем случае мальчишки начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.
Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков у нас были враги более серьёзные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озёрах и реках.
Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво – там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала её вместе с поплавком.
Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов. В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте всё те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерках появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, – ряска. Вода затягивалась липкой зелёной плёнкой, такой толстой, что даже грузило её не могло пробить.
Перед грозой рыба переставала клевать – она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далёкого грома.
В ненастье и во время прибыли воды клёва не было.
Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шёл в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и весёлая рыба.
Как хороши были краснопёрки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озёрами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.
Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далёкие стога.
Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костёр, обсохли и легли вздремнуть.
В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в чистом предутреннем небе.
Я задремал. Разбудил меня крик перепела.
«Пить пора! Пить пора! Пить пора!» – кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.
Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как чёрное стекло; на песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.
Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».
Я осторожно подошёл к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ёрзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.
Рувим застыл – так клюёт только очень крупная рыба.
Поплавок быстро пошёл в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.
– Топит, – сказал я. – Тащите!
Рувим подсёк. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли вётел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили её только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуёй и чёрными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.
Рувим вытер пот со лба и закурил.
Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.
Рувим нёс линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.
Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Они, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом лёгкий шёпот восторга прошёл по их пёстрым рядам.
Мы шли через строй баб спокойно и независимо.